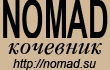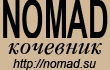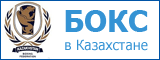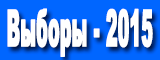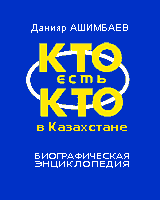Галия ШИМЫРБАЕВА, "Новости недели", 17 Июля 2002 г.
Историей дореволюционного Казахстана в недалеком прошлом заниматься было непрестижно и даже опасно: легко могли обвинить в идеализации феодального или буржуазного прошлого, особенно когда это касалось изучения вопросов происхождения казахского народа и кочевого образа жизни. И как следствие, все книги, монографии, статьи на эту тему в советскую эпоху были наперечет. К ним можно отнести и работу доктора исторических наук Н. Масанова "Кочевая цивилизация казахов". В полном объеме этот труд увидел свет только после крушения советской идеологии: в 1995 году монография была издана тиражом в 1000 экземпляров и быстро разошлась.
Сегодня исследовательским алгоритмом, позволяющим рассматривать историю и культуру казахского народа в определенном контексте, не подпадающим ни под одну из пяти общественно-экономических формаций, заинтересовались французы, которые планируют к концу года издать "Кочевую цивилизацию казахов" в Париже.
- В советские времена в исторической науке существовала так называемая пятичленная схема - первобытное общество, рабовладение, феодализм, капитализм и социализм, - рассказывает ученый, которого в 80-е называли идеологом казахского национализма, а ныне - манкуртом и предателем своего народа. - Всякий историк, решивший заняться проблемой кочевого скотоводства, должен был подгонять закономерности исторического развития кочевых племен под одну из этих формаций. Но они никуда "не вставлялись", потому что у кочевников существовала особая система взаимоотношений, в корне отличающаяся от постулатов советской идеологии.
Я заинтересовался этой темой еще в студенческие годы, обратив внимание на то, что многие исследователи анализируют кочевничество в отрыве от реальной жизни казахов. Дело в том, что 50 проц. территории Казахстана составляет пустыня, 25 - полупустыня, 20 - степь и лишь 5-7 проц. - лесостепь. Для того чтобы заниматься неполивным земледелием, требуется, как минимум, 400 мм атмосферных осадков в год, а в Казахстане в среднем их выпадает вдвое меньше. Совершенно очевидно, что в таких условиях кочевое скотоводство целесообразнее любого земледелия. Кочевой образ жизни - способ адаптации человека к сложным природно-климатическим условиям региона. Попытки некоторых исследователей представить дело таким образом, будто бы казахи кочевали только потому, что это было их субъективным желанием или чьей-то злой волей, являются абсолютной чепухой. Точно так же, как и нынешние утверждения некоторых авторов о том, что древние казахи были сплошь земледельцами и жили в городах.
- Чем могла заинтересовать французов история кочевников?
- Во Франции очень старые традиции по изучению жизни, истории и культуры кочевников. Они берут начало еще со времен французской колониальной империи, которая господствовала в Северной Африке, где как раз проживали кочевники. В свое время подлинным открытием для меня стала классическая работа французского ученого Р. Капо-Рея "Французская Сахара", по которой я учился исследовать и понимать кочевников. Несмотря на то что во Франции очень сильная научная школа номадизма, научно-исследовательский алгоритм, описанный в моей книге, заинтересовал их.
- А что такое кочевое скотоводство вообще?
- Если говорить популярным языком, то это - кочевка по сезонным циклам. В отличие от монголов, кочевавших в зимний период года, казахи зиму проводили стационарно, то есть находились на одном месте от трех до шести месяцев. Это было обусловлено тем, что в Монголии, расположенной на высоких плоскогорьях, ветер сдувает снег в зимний период года. А в Казахстане снег зимой залегает плотным и глубоким слоем, иногда достигающим 50-70 см. В этот период несколько семейств объединялись в один хозяйственный аул, где должно было быть сосредоточено не более 300-400 голов овец. При большем количестве на зимнем пастбище не хватило бы корма. В короткий зимний день овца может ежедневно проходить не более двух-трех километров, поэтому радиус пастбища составлял полтора, максимум два километра.
Алгоритм исследовательской практики показывает: вначале надо изучить особенности среды обитания номадов, затем способы их адаптации в пространстве и механизмы хозяйствования, из которых вытекают прежде всего социальная организация и материальная культура, затем- социально-экономические взаимоотношения, и только после этого духовная культура и общественно-политические процессы. Если выдернуть из этого ряда один из контекстов, то кочевничество как феноменальное явление становится абсолютно непонятным. Большинство же исследователей начинали изучать проблему с третьего, а то и с пятого уровня, то есть сразу с социально-экономических отношений, этногенеза, социальной организации или духовной культуры.
Высшей стадией развития кочевничества многие ученые считали оседлость. Но в условиях пустыни это просто невозможно, поэтому часть населения Саудовской Аравии и многих стран саванно-сахельской зоны Северной Африки до сих пор кочует. Отсюда вывод: кочевое хозяйство было максимально адаптировано к природным условиям. Чтобы выжить в экстремальных условиях дефицита воды в летний период, крайнего холода, доходящего до 40 градусов зимой, резких суточных перепадов температуры, каждый кочевник должен был иметь, как минимум, две квалификации: скотовода и собственно кочевника. То есть уметь ориентироваться в пространстве, предугадывать направление ветра, время атмосферных осадков, знать особенности произрастания растительного покрова, находить воду в безводной пустыне и многое-многое другое.
Эти две квалификации можно было получить только от отца и деда. Отсюда и статус человека. Сироте такую информацию никто бы не дал, а значит, он был обречен либо на гибель, либо на зависимость. Именно поэтому у казахов существовали генеалогический принцип родства и, как следствие, родоплеменная система. Кстати говоря, даже между родными братьями могла существовать конкуренция за информацию. Известны случаи, когда отец самую важную информацию о природных условиях данной местности, находясь на смертном одре, сообщал только младшему сыну, который наследовал его зимовку. В рамках колхозно-совхозной системы потомки кочевников в значительной степени утратили двухтысячелетний опыт ведения кочевого скотоводческого хозяйства, при котором человек рассчитывал только на себя и свои знания, накопленные его предками.
- Малочисленность народа как-то связана с образом жизни предков?
- Кочевое скотоводство при экстремальных условиях жизни вело к высочайшей конкуренции, когда выживал только сильнейший. Единственный достоверный источник того времени - материалы переписи 1897 года - сообщает, что на тот период численность коренного населения на территории Казахстана составляла всего четыре миллиона. За сто последующих лет число казахов увеличилось лишь вдвое.
Много горя казахам принесла эпоха коллективизации, приведшая к их массовой и неестественной оседлости. Необходимо от трех до шести поколений, чтобы адаптироваться к новому образу жизни. У казахов это проходило очень сложно (переход к оседлому образу жизни сопровождался голодом, массовыми болезнями и снижением продолжительности жизни). Тем не менее наше общество показало высокую степень выживаемости и адаптивный потенциал. Сейчас удельный вес казахов, проживающих в городах, уже превысил 50 проц. Но это не снимает проблем, связанных с так называемой деспотией пространства.
До революции плотность населения составляла всего лишь полтора человека на 1 кв. км, а по переписи 1989 года - 6,3 человека. Это означает, что степень освоенности территории у нас выросла всего в три-четыре раза. Это не так много: в советский период в Казахстане города развивались точечно, а все остальное как было пустыней во всех смыслах этого слова, так и осталось ею. Сегодня сложные природные условия продолжают доминировать над нашими возможностями. Перепись населения 1999 года показала, что за десять лет плотность населения упала с 6,3 до 5,7, а значит, уменьшилась степень освоенности и контроля территорий. Разрушается инфраструктура, связывающая огромное пространство Казахстана в единую государственную географическую целостность. Если процесс освоенности территории будет продолжать понижаться (а это вполне возможно в связи с имеющей место эмиграцией), то Казахстан как единое государство просто не выживет, распадется на удельные княжества.
Уже сейчас между разными группами населения даже в рамках одного этноса произошел огромный разрыв. Есть уже сложившиеся казахи-горожане, 3-4 поколения которых живут в городе. А есть те, кто только пытается прижиться в мегаполисах. Первая группа более продвинутая. Ее представители занимают ведущие позиции в бизнесе и в структурах власти, они уже накопили собственность, связи, знакомства, информацию, высокий уровень образования, знание языков и так далее. У вторых возможностей гораздо меньше. В рамках советского государства это было нестрашно, потому что оно при всех недостатках создавало равные возможности гражданам. Но сейчас, когда образование становится все более дорогим и элитарным, у отстающих групп возникают огромные проблемы в плане выживания. Если государство не поможет им, то сельские "аборигены" будут постепенно превращаться в социальную прослойку без будущего. Кстати говоря, это беда не только нашего государства, но и всех развивающихся стран. Классический пример - Индия, где все общество стратифицировано и на официальном уровне существуют различного рода привилегии и касты.
- Вернемся к истории дореволюционного Казахстана. 10 лет назад появились кафедры истории Казахстана. Надо полагать, темных пятен в истории страны стало меньше?
- Дореволюционная история- достаточно серьезная наука. Она основывается на фактах, которые сохранились в архивах и статистических сборниках, поэтому фальсифицировать ее очень сложно. И тем не менее массовый приток научно не подготовленных людей, ранее специализировавшихся на истории КПСС, сильно подорвал основы этой науки. И многие научные проблемы как были неисследованными, так и продолжают оставаться такими. Мне, например, кажется, что сейчас очень важно сосредоточить внимание на персоналиях, то есть на изучении роли отдельных выдающихся людей в судьбах казахского народа. Да, мы знаем Абулхаир-хана, Аблай-хана, еще полтора-два десятка имен, но в целом наша история продолжает оставаться безымянной: есть какие-то процессы, закономерности, но нет деятельности индивидов. А ведь нашу историю творили яркие личности, о которых народ сегодня ничего не знает. Например, Мухаммед-Салих Бабаджанов - первый казахский этнограф, получивший серебряную медаль Русского географического общества. Это произошло в 1857 году, то есть еще до работ Чокана Валиханова. А ведь еще были Сейдалины, Жантюрины, Тяукин, Чорманов, Акпаев, Даулбаев, Кустанаев. Каждый из этих народных историков-этнографов достоин того, чтобы их именами были названы улицы, а то и целые города.
С другой стороны, нужно наконец заняться переизданием трудов ученых, которые занимались историей Казахстана еще в XVIII-XIX веках. Это касается фундаментальных трудов Палласа, Гавердовского, Броневского, Бларамберга, Вельяминова-Зернова, Мейера, Красовского, Медведского, Гейнса, Потанина, Загряжского, Гродекова, Баллюзека, Самоквасова, Маковецкого, Гурлянда, Словохотова, Добросмыслова, Харузина, Аристова, Алекторова, Крафта, Диваева, Коншина, Румянцева, Скалова, Грумм-Гржимайло...
По истории и культуре казахов мы имеем уникальную базу в виде 35 фундаментальных томов - так называемых "Материалов по киргизскому землепользованию". Переселенческая комиссия, представьте себе, просчитала экономическую ситуацию в каждом казахском ауле по 200-300 позициям! Такого источника нет ни по одному народу в мире. К сожалению, эти и другие работы до сих пор не изучены и не переизданы. Если бы это случилось, то произошла бы определенная демократизация исторических знаний, иначе говоря, они стали бы доступны народу. Но тогда труднее было бы мифологизировать и фальсифицировать историю.
- За что вас в 1986 году в отделе науки ЦК Компартии Казахстана называли "идеологом казахского национализма"?
- Один очень известный академик написал тогда большой донос в ЦК, посвятив мне, как "идеологу казахского национализма", воспевающему уникальность казахской истории, несколько страниц. Он утверждал, что я идеализирую казахскую историю и воспеваю уникальность казахского народа, чем нарушаю принципы марксизма-ленинизма. А мои научные труды являются теоретической основой казахского национализма.
- А что было на самом деле?
- Описывать историю казахского народа такой, какая она есть, - мой долг. Я ее не уничижал, не унижал, не пытался представить примитивной, как было принято в советское время. Но я никогда ее и не идеализировал, и не превозносил до небес, как это делают сейчас некоторые вчерашние партийцы. Я всегда говорил, что у казахского народа были свои, особые история и культура, которые не вписывались в общепринятые марксистские рамки пяти экономических формаций.
Прошло шесть-семь лет, и меня стали обвинять в совершенно противоположном "грехе". Теперь я стал "манкуртом". В период, когда республика переживала первые годы своей независимости, была естественная гордость за свое государство, но это чувство порой выходило за рамки. И тогда я выступил с резкой критикой казахского национализма. В общем, чем больше занимаешься настоящей наукой, тем больше шансов войти в конфликт с властью и общественными стереотипами.
Досье "НН"
Нурболат Масанов в 1976 году закончил исторический факультет КазГУ им. Кирова. Затем 10 лет проработал в Институте истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана. В 1986 году перешел на работу в президиум АН. В 1992 году защитил докторскую диссертацию по этнографии в знаменитом Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. С 1992-го по 1998-й работал в Казахском государственном университете. В настоящее время - президент Казахстанской ассоциации политических наук. Автор более 200 публикаций, в том числе 8 монографий. Последняя его книга, посвященная межэтническим отношениям в Казахстане, была издана в этом году в Японии. |