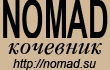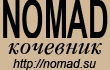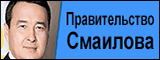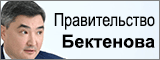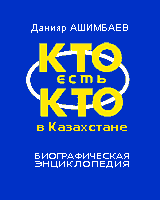Иосиф МАЛЯР, кандидат исторических наук, "Казахстанская правда", 14 января
Сегодня хочу вспомнить о видном казахстанском ученом, члене-корреспонденте Национальной академии наук, профессоре Григорие Федоровиче Дахшлейгере (1919–1983).
Искренний, приветливый, сердечный, Григорий Федорович говорил с собеседником мягко, но настойчиво и убедительно, стараясь донести до него свою мысль, свою идею, особенно если это был разговор об истории, о ее закономерностях и причудах. Логика его рассуждений была безупречной, и неудивительно, что у него было больше сторонников, чем противников.
При этом каждый, кто с ним говорил, понимал, что у этого хрупкого на вид человека внутри "спрятан" стальной стержень. Нечего было даже пытаться навязать ему свои взгляды, убеждения. Если у него сложилось свое мнение о человеке, о событиях, то его практически невозможно было переубедить...
Судя по всему, еще в свои школьные годы Гриша Дахшлейгер понял, что история – его призвание, его судьба.
Он многое успел, но далеко не все, о чем мечтал.
Григорий Федорович храбро воевал, был ранен, контужен, не обошли стороной его и боевые награды, но, кажется, больше всего он ценил медаль "За отвагу", само название которой было близко его характеру.
Не могу припомнить в системе Академии наук Казахстана, где и мне довелось поработать немало лет, другого такого "руководящего долгожителя", как Григорий Федорович Дахшлейгер. В сущности, Институт истории стал для него вторым домом. Судите сами, три года в аспирантуре, семь лет – в должности ученого секретаря, а потом еще двадцать шесть (!) лет (редчайший случай в практике академических учреждений) – заместитель директора института.
Все коллеги Григория Федоровича неизменно отмечали, что это был безупречный работник, точный, организованный, идеально планирующий и "прогнозирующий" не только свою творческую деятельность, но и деятельность всего большого научного коллектива: подготовку монографий, работу аспирантов и т. д. Это был настоящий "начальник штаба" крупного отряда ученых-историков, он тщательно готовил и контролировал планы и программы конференций и семинаров на годы вперед, намечал темы будущих изысканий.
Основные темы его собственных исследований: особенности истории кочевого образа жизни казахов, трудные процессы оседания, а также историография Казахстана, которой он посвятил ряд своих глубоких публикаций. У него было объемное "историческое" видение событий, их оценка порой была беспощадна, но объективна... Надо сказать, что этот его особый дар ценили многие. Григория Федоровича во все годы его работы в институте привлекали к подготовке справок, аналитических отчетов, докладов, которые определяли ход будущих событий.
А какая стойкость духа! У него была невероятная работоспособность, он мог, забывая про сон и еду, сутками напролет работать над важным докладом, статьей для международного научного журнала. У него было редкое умение "выискивать", как золотые крупицы, самые нужные факты и сведения, и они уверенно и достоверно подкрепляли его размышления и выводы.
Мы познакомились и, смею сказать, подружились, в начале 60-х годов минувшего века. Я тогда работал корреспондентом московского Агентства печати "Новости" по Казахстану, но так как по образованию был историком, то решился взяться за диссертацию. Это было, как многим тогда показалось, "оттепельное" время, и я выбрал довольно острую, неоднозначную тему: об участии воинов-казахстанцев в партизанской борьбе и в движении Сопротивления в странах Европы в годы Второй мировой войны. Корреспондентская работа позволяла бывать во многих областях Казахстана, я смог поработать в ранее закрытых архивах, отыскать уникальные документы, наградные справки, а вслед за ними – и отдельных оставшихся в живых участников этих событий, многие из которых в годы войны оказались в фашистском плену, под страхом смерти были загнаны в ряды Туркестанского легиона, но в последний год войны сумели бежать из казарм этого "легиона", который в то время размещался в основном на территории Бельгии и Франции.
После побега многие оказались в рядах французских "маки", в бельгийских партизанских отрядах, сражались храбро, вернулись с наградами, но в Советском Союзе почти всех репрессировали, многие провели долгие годы в лагерях, на рудниках. И вот об этих событиях я подготовил диссертацию. Защита в КазГУ прошла прекрасно. Но мне удалось узнать, что по письму из КГБ Казахстана мою диссертацию резко "притормозили" в Москве. И тогда я обратился к Григорию Федоровичу, откровенно обо всем ему рассказал, хотя понимал, что тогда как огня боялись всего, что было связано с "Туркестанским легионом", никто не хотел возвращаться к тем событиям.
Григорий Федорович обратился за помощью и поддержкой к московским друзьям, а среди них тогда были Александр Оганович Чубарьян, ныне академик, всемирно известный ученый, генерал Жилин, директор Института военной истории, и по их наставлениям я успешно прошел "над пропастью"...
Но последнюю точку в этом деле поставил мой учитель и наставник еще со студенческих лет, замечательный ученый, академик Серикбай Бейсембаев. Он обратился к одному из руководителей КГБ, рассказал ему о моей работе, и знак "стоп" был снят: пришла пора первым исследованиям и на эту сложную тему.
Всю жизнь я помню об этом и благодарен Григорию Федоровичу...
В жизни нередко запоминаются не "ученые" разговоры и беседы, не жаркие споры о новой книге, а что-либо курьезное, забавное. Вот и мне вспомнился один необычный случай... Однажды раздался телефонный звонок:
– Иосиф, помоги мне выбрать цепочку к приезду Риты.
– Конечно, с радостью! Через час приеду за вами.
В тот год в Алма-Ате на углу улиц Гоголя и Панфилова почти весь первый этаж нового дома отдали под "роскошный" по тем временам ювелирный магазин. Туда мы и приехали с Григорием Федоровичем. Поднялись на высокое крыльцо, вошли в зал, заставленный сияющими витринами, подошли к отделу, где продавали золотые цепочки.
Профессор Дахшлейгер взял в руки сразу несколько, потом выбрал одну, самую толстую, и несколько раз осторожно подергал ее в разные стороны. Больше ни к одной не притронулся, отвел меня немного в сторонку и сказал:
– Как ты думаешь, а она выдержит?
Я не понял вопроса, пожал плечами.
– Ты знаешь, Иосиф, мне нужна цепочка на дверь, Рита очень просила купить к ее приезду, я далеко не уверен, что это то, что надо...
Я бережно взял Григория Федоровича "за локоток", и мы направились к выходу, и только на крыльце я согнулся почти пополам от смеха. Профессор Дахшлейгер оставался задумчивым и строгим...
Разумеется, эта забавная история, словно взятая из книг о "рассеянных" профессорах, только подтверждает, что такое действительно бывает в жизни, были и есть на свете люди, которые неуютно чувствуют себя в "тисках" скучных хозяйственных забот, но в своем деле – всегда на высоте!
Эти люди сияют в жизни всеми гранями своих ярких талантов... И таким, безусловно, был незабвенный Григорий Федорович! С ним, с его семьей, мы были рядом немало хороших лет, и спасибо за это Судьбе... |